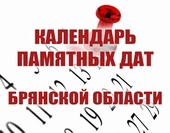ВЕРА. НАДЕЖДА. ВОЙНА
(Новелла)
Их подогнали к лагерю на рассвете, по холодку, упрятав от лишних глаз за палатки. И выстроили не по ранжиру, не по номерам или списочному составу, а скопом, лишь бы вместились на косогоре. Лишь одна, Любаша из новеньких, оказалась явно без царя в голове и выбилась из общей массы остренькой грудью, уже залапанной пыльными солдатскими пальцами, – я здесь, куда бежать, с кем целоваться?
Нацелуешься. Ох, намилуешься еще, дурёха…
Гарантию давал Ушастик, идущий к солдатскому гарему с фляжкой в руках. Улыбается батальон: у командира не только обгоревшие на солнце уши, но за ними он постоянно носит и два карандаша, которые нужны ему для работы с картой. Нужны-то нужны, но если смотреть со стороны, то ни дать ни взять - рожки выросли. Майору плевать на приметы, потому что ещё не женат, а значит, не обманут. Да и надо ли обманываться? Вон, батальонные девочки все как на подбор, даже ещё не клятая–не мятая Любаня в ожидании команды только что не пританцовывает на бугорке. Вперёд и с песней?
Будет ей и песня!
Глянул из-под выцветших бровей на остальных женщин. За время службы с каждой кувыркался всяко-разно, возможности каждой знает, как свои пять пальцев. Пардон, три: мизинец и безымянный у правой срезало осколком ещё зимой, остались где-то в горах внутри упавшей варежки. Вот будет загадка для археологов через пару сотен лет, если найдут пропажу!..
Тряхнул головой майор, теряя из-за левого уха один «рожок», вернулся в реальность, к своему гарему. Проверенные в боях и походах девочки, в отличие от Любы, вперёд батьки в пекло не лезли. Маша отступила за Раю, Надя сиамским близнецом стоит впритирочку с Верой, а Зоя – та вообще откровенно спряталась за молоденького лейтенантика, в первый же день пребывания на войне потерявшего собственный лифчик. Кто-то сунул ему замену, и взводный под усмешки солдат торопливо пытался застегнуть его до того, как станет в строй. Вот лейтенант точно дурак, похлеще Любани, потому что всеобщий бардак войны – это прекрасная возможность улучшить личное материальное положение, а не терять свою амуницию…
- Офицеры, ко мне.
Солдат шугнул подальше взглядом из-под бровей, и десантура вмиг исчезла за ребристыми, словно от недокорма, боками своих красоток. А уж тем отступать было не за кого. Только и оставалось умолять командира взглядами: знаем, что не оставишь в покое, что обречены и подневольны. Но отпустил хотя бы помыться, очистить от пыли глаза, опустить ножки в водичку, окатить из шланга закопчённые спины. Неужели самому приятно смотреть на чумазых? Вон у связистов девочки – только что бархоткой не протирают…
Связисты, слов нет, молодцы. В отличие от десантников, им кто-то умный при выборе профессии вовремя подсказал, что нормальные люди из нормально летящего самолета сами не выпрыгивают. Они сидят в капонирах, им любой лоск наводить можно.
И потому не тряпицу-бархотку вытащил из своего лифчика Ушастик, а истрепанную в бахрому топографическую карту с нанесённой боевой обстановкой. С синими уступами и красными стрелами. С цифрами почасового выхода на рубежи. Одного взгляда на эти художества командира стало ясно даже только что прибывшему в батальон лейтенантику: бой ожидается не шуточный, с неизбежными санитарными и безвозвратными потерями. Господи, пронеси!
Но не пронесёт ведь, потому что цифры и рубежи расположились практически вплотную, на один укол карандашом, оставшимся за правым ухом майора. Один укол на карте – всего-то сто метров на местности. Стометровка для спринтера – 16 секунд. Батальону же, обвешанному оружием, способным сметать всё на своем пути, на преодоление дистанции отводится час. Значит, у противника оружие не слабее…
Нарушив тишину, вжикнул, наконец, замок на лифчике лейтенанта. Отметив нервный успех новичка, подмигнул ему первый ротный. Ему можно, ему точные науки по боку, он знаток русского языка. В своё время, ворвавшись при штурме Грозного в дом на окраине города, вывел по фасаду надпись: «Меняю девятиэтажный дом в Грозном на двухкомнатную квартиру во Пскове». Давно это было. А тут хоть особняк в центре Москвы меняй на окопчик средь горного склона. Разница лишь в том, что особняка нет, а склон – вот он, уже под ногами. А боевой приказ в руках у комбата. Нету пути назад…
И хотя были офицеры почти все в орденах и медалях, а за подмогой оглянулись на неровную шеренгу девочек. Выставленные словно напоказ, без солдатского хоровода вокруг себя, они вдруг сделались беззащитными и жалкими. И даже Любашка, этот несмышлёныш, глупыш, лисёныш, уже не рада была, что вылезла вперед, приняла на себя все мужские взоры. А из одежонки-то – лишь бархатная пыль. И целоваться уже явно не хочется. И комбат поджимает губы: угораздило же ей иметь такое же имя, как и у его невесты. Сравнивай теперь, думай невольно, как оградить, спасти…
Крякнул Ушастик, потеребил ухо оставшимся карандашом. Сколько раз его батальон под защитой гарема ходил в атаки! Если уж быть откровенным, это их заслуга, что десантники сейчас стоят пусть и через одного отмеченные пулями, но - живые. Именно за девушками, как за щитом, врывались его бойцы в города и бандитские лагеря, форсировали реки и штурмовали высоты. Конечно, взрывались, горели, калечились батальонные Тани, Светы, Вали, Кати, именно в них впивались в первую очередь разрывные пули. Но когда уже виделась врагу победа, вставала вдруг стеной из-за любимых женщин десантура, кроваво хрипела «Ура», но водружала свои знамёна на горных вершинах. А девочек… покалеченных девочек списывали в утиль. Ничего не попишешь – война. Просто ждали, когда пригонят новых, благо хватало пока у России этого пушечного мяса…
Воткнул комбат карандаш в центральный синий выступ, поднял взгляд на знатока русского языка. Первый ротный склонился к самой карте, словно пытался рассмотреть на ней окопы, ДОТы, минные поля. Хотя ясно, что всё это узнается лишь на месте, на собственной шкуре. А Ушастик всё тыкал в новые и новые места, и офицеры, повторяя движение первого ротного, склонялись над клочком-оборвышем с коричневыми и зелеными разводами. И лишь когда затупилось острие грифеля, когда перенеслась по кусочкам общая картинка боя на ротные и взводные карты, когда, встав на цыпочки, заглянуло через стриженые затылки офицеров на секретную схему солнце, сложил гармошкой карту комбат. Стал пить воду из фляжки. И вновь расстегнулся лифчик у лейтенантика, которому выпадало быть в резерве. Худшее из возможного. В резерве можно отсидеться, но им же затыкают и бреши, бросая в самое пекло…
Не дал застегнуться лейтенанту второй раз грозный рык Ушастика:
- И бабьё убрать с боевых машин! Завели моду!
Ушёл, выливая из фляжки остатки воды себе на голову, растирая капли под бронежилетом - немело зажатое стальными пластинками сердце, просило воли. Хотя должно уже было знать, что в одиночку гулять ему по войне опасно…
- А может, как-то обойдётся?
Солдатики, вернувшиеся из укрытий к пыльным, чумазым красавицам, попытались взять в союзники взводных офицеров и вместе воспротивиться последнему указанию комбата. Они не видели карт и надеялись, что всё обойдётся: мало ли бегали на эти войнушки, иногда весь день только тем и занимались, что игрались с боевиками в прятки «Сопка наша - сопка ваша». Авось не отвернётся удача и сейчас, и не надо будет расставаться с любимыми именами. Ведь сильнее всего женщин любят, когда их нет рядом. А война – идеальное место для любви…
- Мы масксетью прикроем…
Не предали комбата, опрокинули навзничь солдатские уловки офицеры, словно сами никогда никого не любили:
- Выполнять приказ!
Не любили!
И, выкраивая время между загрузкой боеприпасов, укладкой дополнительных магазинов в лифчики – пусть простят женщины, но разгрузочные жилеты с множеством карманов для всякой мелкой ерунды, нужной в бою, с времен Афгана в армии называют «лифчиками», - готовясь к бою, терли осколками кирпича свои острогрудые боевые машины солдаты. «Убирали бабьё», - стирали с брони женские имена, некогда любовно выведенные на башнях и, словно иконки, украшенные цветастыми окладами. Крошился красный кирпич, перетирая белую краску на зелёной броне. Исчезали Раи, Веры, Нади, - кто жена, кто невеста, кто просто обещал отвечать на письма. Дольше всех сопротивлялась Люба, Любовь – её имя не успело ни выгореть, ни заветриться, потому что только вчера его самолично вывел на новенькой броне жадный до первого своего боя лейтенантик. Но кирпич, взятый с развалин местной школы, знал своё дело, и обереги, символы, образы, имена всё же постепенно уменьшались, исчезали. Так художники ластиком стирают ненужные детали в своих набросках. Только разве могли они быть лишними – те, кто любил и кого любили, кто истово ждал и к кому всей душой стремились!
Но в глубине души всё же соглашались со своим комбатом солдаты: а ведь и впрямь нельзя подставлять под гранатометы, мины, разрывные и трассирующие, - вообще никакие пули, женские имена. Сами – ладно, уж как-нибудь, как повезёт, с божьей помощью и родным АКМС, который автомат Калашникова модернизированный складывающийся.
...И вёл в атаку на горный укрепрайон свои острогрудые, ребристые боевые машины с Петями, Колями, Иванами, с русскими парнями Герой России, майор с обгоревшими ушами и со срезанным безымянным пальцем, на которое теперь уже никогда не наденется обручальное кольцо. Плясали под огнём «Вера» и «Надя», прикрывая друг дружку. Вертелась на одном месте с перебитой гусеницей «Зоя», не прекращая огня. Отстреливалась до последнего, даже не ведая набитым железом, боеприпасами и электроникой нутром, что её имя означает «жизнь». Казалось, стерли солдаты имена любимых, попытавшись оградить их от беды. Но незримо, явью проступали они над полем боя, над булавочным уколом, вместившим в себя выжженную огнём стометровку, которую возвращали солдаты для России.
И держали, берегли до последнего в батальонном резерве БМД с бортовым номером 18. То ли просто потому, что спасал комбат молоденькую, «восемнадцатилетнюю», неопытную, только что прибывшую на войну «Любовь», то ли всё же думал тайно о своей невесте, то ли впрямь по судьбе именно этому имени выпадало закрывать собой брешь в атаке…
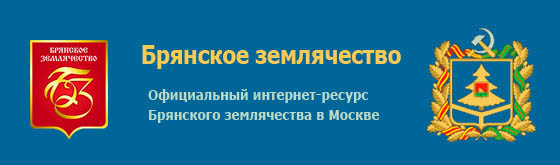

 Прищеп
Прищеп